
«Лечение рака — это командная “игра”». Молодые онкологи — о профессии, учебе и пациентах
31.05.2024Когда детский онколог Ирина Безъязычная пришла в детское онкологическое отделение, она первое время старалась прятать свои длинные волосы — чтобы не смущать детей, которые проходят химиотерапию. Но коса все равно выглядывала из-под врачебного костюма, за что дети прозвали Ирину «Доктором-зайчиком».
Химиотерапевт Мария Красавина говорит, что пациенты, особенно сверстники, своим примером каждый раз напоминают ей, как важно ценить и чувствовать жизнь. Она также пишет материалы для врачей, ведет блог. А хирург-онколог Антон Бржан видит в лечении рака прежде всего командную игру, а главную задачу онколога — в том, чтобы помочь пациенту сделать правильный выбор.
Как устроены рабочие будни молодых онкологов, с какими переживаниями они сталкиваются и за что любят свое дело? Мы записали истории пяти резидентов Высшей школы онкологии. Это образовательная программа фонда «Не напрасно» для талантливых выпускников медицинских вузов.
За девять лет работы ВШО подготовила 108 онкологов, которые знают самые современные методы диагностики и лечения рака, умеют грамотно общаться с пациентами и критически читать научные статьи. Каждый из них принимает около 450 пациентов в течение года. А вместе они помогают 50 тысячам пациентов за тот же срок.
Команда фонда запустила приемную кампанию в Высшую школу онкологии и сбор средств, чтобы подготовить еще 20 врачей нового поколения.
Мы опубликовали этот материал в июне 2022 года. Герои статьи уже работают в онкологических центрах и участвуют в благотворительных проектах фонда «Не напрасно»: выступают экспертами онлайн-справочной «Просто спросить», чтобы каждый человек, столкнувшийся с онкологическим диагнозом, мог бесплатно и своевременно получить ответ на свой вопрос, пишут статьи в справочник «Онко Вики» и «Профилактику Медиа», а также преподают новым резидентам Высшей школы онкологии.
Детский онколог Ирина Безъязычная: «Лечение ребенка с онкозаболеванием — это марафон, который вы вместе с его семьей преодолеваете»

О выборе детской онкологии и медицинских фильмах
Когда я впервые пришла в детское онкологическое отделение, мне было очень дискомфортно: все дети без волос, а у меня — длинная коса. И я чувствовала себя из-за этого виноватой и даже прятала косу под костюм, но хвост все равно виднелся сзади, и дети шутили «Доктор-зайчик».
Я 12 лет учусь медицине: сначала окончила медицинский колледж, потом университет в Чебоксарах. Во время учебы в университете работала в детской реанимации инфекционной больницы, где видела много разных тяжелых детей — с менингитом, коклюшем. И последние пару лет у нас было несколько детей с онкологическими заболеваниями — опухолью мозга и саркомой мягких тканей. Их родители, к сожалению, отказались от лечения: одна мама ушла к целителю, другая «лечила» диетой.
Мне стало как-то не по себе оттого, что родители в XXI веке почему-то не верят врачам, и это подогрело мой интерес к онкологии. А так как я педиатр, то подумала пойти в близкую сферу — детскую онкологию. Стала узнавать у знакомых врачей, где можно поучиться, а потом увидела объявление о наборе в Высшую школу онкологии. Решила попробовать, подала заявку, прошла этапы отбора. И вот я здесь.
Недавно я посмотрела фильм о девочке с лейкозом, и в нем меня поразили объяснения доктора о заболевании. Он сравнил его с армией врагов, которую необходимо победить. И я четко поняла, что нужно уметь или, точнее, этому научиться — объяснять ребенку на его детском языке, что произошло в организме и как с этим надо справиться.
Мне нравится смотреть сериалы и фильмы на медицинскую тему. Некоторые фильмы или сцены могут также научить общению с трудными пациентами, и это тоже определенный опыт. Меня, конечно, за это ругают мои коллеги, говоря, что надо полностью отключаться от работы в свободное время, но пока это не получается. Медицина — это болезнь.
О причинах и симптомах онкозаболеваний у детей
Родители часто задают вопрос: «Почему у нашего ребенка возникла опухоль?» и всегда начинают искать вину в себе: «Может, мы что-то сделали не так?».
Рак — это все-таки болезнь взрослых. К 60-70 годам у человека может накопиться определенное количество генетических поломок, в результате чего какая-то клетка начинает делиться так, что развивается опухоль.
У детей опухоли имеют другое происхождение, чаще всего возникают эмбриональные опухоли, и причина этого — какая-то спонтанная генетическая поломка во время беременности, в раннем детском возрасте или наследственная предрасположенность к опухолевым синдромам.
Могут быть семейные случаи рака, например, при синдроме Ли-Фраумени. А иногда бывает, что встречаются женщина с одного конца света и мужчина с другого, оба оказываются носителями определенной «поломки», и рождается ребенок с опухолью.
В детской онкологии имеют место и диагностические сложности: для взрослых разработаны различные скрининговые программы, а для детей они отсутствуют. К сожалению, не все детские врачи хорошо осведомлены о «детском раке», в связи с чем опухоли диагностируются на поздних стадиях, когда появляются выраженные симптомы — большой живот, утренние рвоты, головные боли, и даже в этой ситуации детские специалисты не всегда думают об опухоли в первую очередь.
К счастью, наши пациенты в большинстве случаев выздоравливают, даже с 4 стадией ребенка можно вылечить. Сегодня общая выживаемость составляет около 80%, при некоторых лимфомах — около 95%.
О первом выздоровевшем пациенте и моментах отчаяния
Моим первым пациентом, которого мне доверили вести, был мальчик 5 лет с опухолью головного мозга. Я тогда только начинала вникать в детскую онкологию, постоянно штудировала литературу на русском и английском языках — родители обычно задают очень много вопросов, и надо уметь на них отвечать.
Ребенок плохо переносил химиотерапию, у него была постоянная тошнота и рвота, и я пыталась найти схемы нестандартной противорвотной терапии, чтобы уменьшить такие симптомы. Сейчас ребенок в ремиссии, и каждые три месяца после контрольного МРТ мама присылает мне фотографии: «Вот вам привет от С…». А когда приходят в поликлинику, обязательно пишут мне: «Мы хотели бы Вам показаться» — и это очень приятно.
Ребенок растет, меняется, в этом году пойдет в первый класс. Это необыкновенное ощущение — выздоровевший пациент.
Бывают и очень тяжелые моменты… Мы, к сожалению, не можем вылечить всех пациентов, и если твой пациент не выздоравливает, тебя иногда настигает чувство отчаяния.
У меня был такой пациент — мальчик с редкой агрессивной опухолью мягких тканей. Когда он поступил в больницу, уже не ходил, хотя 4 месяца назад играл в футбол. Мы провели ему интенсивную полихимиотерапию, достигли хорошего эффекта, ребенок начал ходить, и, кажется, все уже было хорошо, но вдруг после 6 курса развился рецидив заболевания.
Мы сменили несколько схем терапии, я искала все новые и новые варианты лечения, но опухоль прогрессивно росла, развился выраженный болевой синдром, проводимая терапия была признана неэффективной.
Мне казалось, что я делаю недостаточно для пациента, так как его пришлось перевести в детский хоспис. Такой результат лечения мне было очень трудно принять…
О «сундуке храбрости» и умении общаться со всеми участниками лечения
Особенность работы детского онколога — необходимо уметь коммуницировать как с ребенком, так и со взрослым, а это мама, папа, бабушки и дедушки. Только с каждым ты разговариваешь на его уровне.
Для маленького ребенка у тебя есть «сундук храбрости», в котором лежат игрушки. Вы смотрите мультики, и тебе нужно быть в теме, знать всех современных мультяшных персонажей. Тебе нужно обязательно понравиться ребенку, и если ты нашел с ним контакт, то он все будет тебе рассказывать, доверять, пойдет с тобой за ручку на все процедуры.
Подростки гораздо сложнее, потому что им хочется свободы, «тусить», у них на все есть свое мнение, а тут химиотерапия, строгие правила гигиены, режима, питания. Трагедией для многих становится потеря волос, лишний вес — как например, при лимфоме Ходжкина, когда они получают высокие дозы гормонов.
Из-за таких изменений внешности подросток может отказаться от лечения, и вот тут тебе надо суметь убедить его лечиться, соблюдать необходимые правила. Ты должен быть убедительным, постараться найти аргументы, которые помогут принять правильное решение, и в каждом случае это индивидуальный подход. С моей точки зрения, это самые трудные пациенты.
Очень многое зависит от родителей, от их контакта с ребенком. Иногда они запрещают говорить маленькому пациенту о диагнозе и осложнениях лечения, не каждый готов рассказывать о болезни знакомым и родственникам.
Общение с родителями нередко бывает очень трудным, особенно при сообщении о тяжелом диагнозе и прогнозе. В этом случае помогают навыки, которым меня обучили в ВШО. Но даже если ты соблюдаешь весь протокол сообщения плохих новостей, можешь не ожидать реакции родителей — кто-то плачет, кто-то может начать ругаться, кто-то даже драться — и я это видела в реанимации. Здесь тоже нужно уметь справляться с такой ситуацией: изменить тактику поведения, попытаться найти нужные слова, воспользоваться помощью психолога.
Лечение ребенка в среднем занимает от года до двух лет. И в самом начале ты говоришь родителю: «Давайте попытается с вами стать одной командой, так как у нас есть общая цель — выздоровление вашего ребенка, и мы будем делать все, чтобы он поправился и ушел домой здоровым и счастливым». Лечение ребенка с онкозаболеванием — это марафон, который вы вместе с его семьей преодолеваете.
Кроме того, важно, чтобы лечение не травмировало ребенка: он не должен испытывать боли или страха перед доктором, перед диагностическими процедурами и лечением. Для этого все исследования проводятся под наркозом, всем детям ставятся центральные венозные катетеры разного типа, чтобы не причинять ребенку дополнительной и ежедневной боли.
О Высшей школе онкологии и навыках современного детского онколога
ВШО — это самое, наверное, лучшее, что произошло со мной за годы учебы в плане получения знаний, возможности учиться у лучших преподавателей и человеческого общения. Что я поняла за эти 2 года обучения?
Каждый врач должен критически мыслить и основывать свои действия на современных международных исследованиях. Обязательно владеть английским языком — это не просто важно, это необходимо. В основном все международные протоколы лечения — на английском языке, и чтобы продолжать работать на современном уровне, нужно постоянно читать зарубежную литературу в оригинале.
В последнее время в детской онкологии стало широко развиваться молекулярно-генетическое направление, у нас меняются классификации и появляются новые виды различных опухолей. И поиск информации, которому нас учили в ВШО — например, о какой-нибудь редкой опухоли, просто необходим.
ВШО для меня — это еще и возможность обучаться в Петербурге, в отделении Маргариты Борисовны Белогуровой, где работают уникальные детские онкологи. Эти люди стояли у истоков детской онкологии в России и в Петербурге, в частности.
В ВШО я увидела людей, у которых горят глаза, которые постоянно что-то читают и чем-то делятся. Например, детские онкологи из прошлых наборов организовали для нас цикл занятий, где мы собираемся и изучаем детские опухоли различных локализации, особенности их диагностики и лечения, и что особенно важно — самые современные подходы.
Какие-то навыки уже оттачиваются, как будто они были с тобой всегда: ты уже на английском составляешь вопросы и понимаешь, как интерпретировать исследования. Конечно, я еще не идеально все это знаю и умею, но надеюсь, что с каждым годом эти навыки будут улучшаться.
Химиотерапевт Мария Красавина: «Лекарственная терапия может дать людям такие сроки жизни, которых раньше у них не было бы»

О «медицинских услугах» и ответственности за жизнь человека
Мне всегда сложно отвечать на вопрос «Врач — это спасатель или «медицинская услуга?»» и в принципе не нравится, когда мы все пытаемся внести в какую-то категорию. Мне кажется, истина здесь действительно где-то посередине.
Понятно, что мы работаем непосредственно с человеческими жизнями, и это сложно вписать в категорию обычной услуги, как, например, услуга парикмахера. При этом понятие «врач-спасатель» мне тоже не очень близко, потому что сейчас вся медицина движется в сторону, где и пациент — непосредственный участник своего лечения, он принимает решения вместе с врачом.
Например, человек говорит, что хочет съездить на свадьбу к своей дочери и просит перенести лечение — у меня был такой пациент. Химиотерапия же проводится регулярно с какими-то интервалами — раз в две или три недели, и некоторые люди в течение месяцев или даже лет постоянно привязаны к клинике.
Вся их жизнь крутится вокруг того, что им нужно пройти очередной курс, а до этого еще две недели заниматься анализами и подготовкой к следующей госпитализации — и так по кругу. Это очень тяжело, поэтому нам, врачам, тоже надо обязательно учитывать интересы и желания пациентов, в том числе немедицинские.
Думаю, что в нашей работе есть и элемент услуг — подробно разъяснить план действий, постараться сделать лечение комфортным для пациента, насколько это возможно. Только те услуги, которые мы оказываем, сложные и с большей ответственностью сопряжены. Но я не могу сказать, что для меня это груз. Скорее, как естественная часть работы — то, без чего ее не может быть.
Мне кажется, здесь ключ в том, чтобы все обсуждать с пациентом, чтобы он понимал, где и какие есть риски, какие цели у лечения, к чему в итоге мы, скорее всего, придем. И в таком случае человек не так боится, потому что представляет, что с ним может произойти, и планирует свою жизнь на фоне лечения.
Об увлеченности наукой и желании помочь тем, кого считают «бесперспективными»
На третьем курсе университета (я училась в Архангельске) я начала очень активно интересоваться хирургией и участвовала в разных олимпиадах, где многие задачи были связаны именно с онкологическими заболеваниями. И когда готовилась к ним, много об этом читала и начала погружаться. Плюс часто ходила в онкодиспансер, чтобы посмотреть на онкологические операции в реальной жизни.
Мне тогда была больше нужна техника. Мне кажется, что я вообще в те годы не особо представляла себе, как люди живут с этим диагнозом. То есть у меня была такая увлеченность: наука, опухоли, как все интересно, какие интересные операции.
С пациентами я начала сталкиваться, когда работала медсестрой в приемном отделении. Через нас проходили все пациенты, и я видела много людей с онкологическими заболеваниями — в основном либо в каких-то острых ситуациях, либо когда они достаточно запущены и уже не получают противоопухолевое лечение, но им нужна помощь в плане обезболивания или борьбы с инфекцией.
В этот момент я начала понимать, что это очень сложная группа пациентов, с ними зачастую не очень любят работать, так как считают «бесперспективными». И меня это еще больше простимулировало пойти в онкологию, потому что хотелось как-то... больше помогать таким людям, чтобы они не были брошенными из-за того, что у них потенциально неизлечимое заболевание.
Когда я работаю непосредственно с пациентом, стараюсь не думать о смерти. Да, в некоторых случаях мы знаем, что у человека есть конечная точка, которая ближе, чем у других людей. Но сейчас он продолжает жить свою жизнь и на самом деле мало чем отличается от нас. А еще у него есть проблема, которую нужно решить — этим я и занимаюсь.
Очень запоминаются пациенты молодые — с ними ты больше себя ассоциируешь, и у них все как-то очень трагично происходит: был молодой человек, с работой, семьей и внезапно чем-то заболел. И ты уже больше начинаешь задумываться о своей жизни и какие-то моменты ценить больше. Хочется как-то более полно свою жизнь проживать, потому что ты видишь, как иногда бывает.
О Высшей школе онкологии и навыках современного врача
О Высшей школе онкологии я узнала, когда начала интересоваться этой областью медицины, и поняла, что в России, наверное, это лучшее, что может получить онколог для своего обучения, и мне нужно обязательно попробовать туда поступить. Но после университета, без сертификата по общей хирургии, я могла пойти только на химиотерапию, и к этому моменту поняла, что мне уже не важна специализация: было принципиально заниматься онкологией.
Весной и летом 2020 года я очень много работала — тогда ковид только начался, и везде происходил какой-то хаос: много кто из персонала болел, поэтому у меня даже не было сил и времени волноваться. Когда был какой-то дедлайн — например, нужно было сдать анкету, пройти тест или написать эссе, я после суток одним глазом все делала, отправляла и падала спать.
На последнем этапе — собеседовании с мастодонтами ВШО — у меня сломался компьютер, причем именно в тот момент, когда я должна была подключаться. И это был просто дичайший стресс, я подключалась с телефона, но на удивление все как-то получилось.
Одна из классных вещей, которым учит ВШО, — понимание, где искать и как обрабатывать информацию, каким источникам можно доверять, а каким нет. Это очень важно, и многие этого не знают. Например, ВШО учит, что нужно обращаться к первоисточникам: все рекомендации строятся на основе клинических исследований, и их иногда тогда тоже полезно изучить: там есть важные детали.
Мне кажется, самое важное, что есть в ВШО — это сообщество. Здесь все люди высокомотивированные, и каждый подтягивает друг друга — это очень здорово.
О возможностях лекарственной терапии
Многие пациенты думают, что если им назначили химиотерапию, то все уже кончено. Но это не так: лекарственная терапия используется в разных ситуациях, в том числе после операции, чтобы полностью уничтожить опухолевые клетки, которые могли остаться в организме. Считается, что после такой профилактической терапии человек выходит в ремиссию.
Да, основная ниша химиотерапии лежит все-таки в области метастатических процессов, она воздействует на опухоли, которые не поддаются полному излечению. Но химиотерапия может взять заболевание под контроль, остановить рост или уменьшить опухоль, и таким образом уменьшаются симптомы, качество жизни улучшается, а сама жизнь человека продлевается.
Лекарственная терапия вообще бывает разной — это химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия. И в некоторых случаях она может позволить добиться очень хороших результатов, дать людям такие сроки жизни, которых раньше не было бы.
Очень яркий пример — меланома, которая практически не чувствительна к химиотерапии. И если раньше пациенты с метастатической меланомой жили всего лишь несколько месяцев, то сейчас благодаря иммунотерапии живут несколько лет даже с 4 стадией.
Таргетная терапия при раке легкого продлевает людям жизнь на несколько лет, хотя раньше они тоже жили несколько месяцев. Так можно сказать и про метастатический рак кишечника.
И сейчас, слава богу, мы достигли такого уровня развития, что знаем все побочные эффекты, которые могут возникать во время лечения (например, тошнота), и с помощью поддерживающей терапии умеем с ними бороться.
О необъятности онкологии и статьях для молодых врачей
Любой врач — молодой или нет — не может знать все. И очень хорошо об этом не забывать и не становится в какой-то момент своей жизни супер-экспертом в собственных глазах, потому что всегда можно попасть в ситуацию, в который прямо сейчас ты не знаешь, что делать. И это нормально.
Я стараюсь с пациентами всегда разговаривать честно, и если сейчас не знаю ответ на их вопрос, то так и объясняю: «Я не знаю, но сегодня выясню и завтра утром все расскажу». А если вижу, что кто-то смущается, что его ведет ординатор, а не взрослый доктор, то говорю, что у меня есть куратор и любые сложные моменты мы будем решать вместе и со всем разберемся. Не будет такого, что вас будет вести неопытный врач, который ничего не знает.
Онкология — это вообще совершенно необъятная сфера, в которой постоянно появляется что-то новое, здесь много науки и исследований, и это стимулирует тебя соответствовать и постоянно свои знания обновлять.
Меня очень поддерживает, когда мы видим хороший ответ на лечение, при котором уменьшается боль и другие симптомы, которые доставляли страдания, или пациент чему-то искренне рад — это очень здорово!
Еще мне очень нравится развивать образовательный проект «HSO talks», вести его телеграм-канал. Меня очень вдохновляет, что ребята бесплатно, на своем энтузиазме, выпускают очень много классных материалов, которые потом могут читать молодые врачи по всей стране. И по качеству и доступности эти тексты бывают намного выше учебников.
Например, в паблике HSO talks в «ВКонтакте» сейчас выходит целый цикл статей, посвященных таргетной терапии, а в телеграм-канале мы регулярно публикуем обзоры новостей из мира онкологии и разбираем сложные клинические случаи.
Для меня такая деятельность — это дополнительный стимул что-то еще почитать, в чем-то разобраться. И то комьюнити, которое сложилось у нас в ВШО, — это коллеги, которым ты доверяешь, с которыми можешь посоветоваться насчет пациентов. Ты знаешь, что эти люди говорят с тобой на одном языке, и это будет очень помогать в работе.
Патоморфолог Анна Шестакова: «Наша ошибка в диагнозе может стать фатальной для пациента»

О мифах вокруг специальности и эмпатии, которую нельзя убрать
Мне всегда нравилось смотреть в микроскоп, так как складывается ощущение, что там отдельный мир, который хочется изучать.
Патологическая анатомия — это интересная диагностическая специальность, потому что она объединяет всю медицину: ты должен разбираться во всех ее областях и обладать клиническим мышлением, чтобы хорошо работать здесь.
Вокруг моей работы много предубеждений типа «О, так ты работаешь с трупами?». Но я стараюсь объяснить, что преимущественно исследую под микроскопом «материал» от живых людей, полученный после любого хирургического вмешательства, чтобы поставить диагноз. Так как я прохожу практику в специализированном онкологическом учреждении, то изучаю преимущественно опухоли.
Это очень ответственное направление, потому что на основании нашего заключения онкологи назначают лечение и определяют прогноз для пациента — ошибка в диагнозе может стать фатальной.
При этом человек для нас — это не только то, что мы исследуем в стеклах. Как и врачи других специальностей, мы берем во внимание все детали: возраст, пол, результаты анализов, какие пациент принимает препараты. Только учитывая совокупность данных, можно поставить точный диагноз.
В работе не получается полностью убрать эмпатию. Например, я переживаю, когда приходится сталкиваться с онкологическими заболеваниями у детей и молодых взрослых. Но приходится брать себя в руки и продолжать делать свою работу, потому что кроме тебя ее никто не сделает.
Проведение вскрытий тоже входит в мои задачи, но это бывает редко и никак не влияет на мою обычную жизнь, потому что понимаешь, что мы все смертны и это естественный исход жизни. В моменте стараешься абстрагироваться и воспринимаешь как часть работы, которую необходимо выполнить. Патоморфолог устанавливает причину смерти пациента, и это тоже важный этап.
О многоэтапной постановке диагноза и творческом подходе к работе
Я прицельно занимаюсь торакальной онкологией (опухолями, расположенными в грудной клетке) и молочной железой, «дежурю» на этих направлениях.
В течение дня хирурги приносят материал после операций — то, что они удалили. Нам необходимо сверить документацию, подробно описать то, что мы видим.
Самая большая сложность заключается в том, что нужно подходить творчески к каждому случаю, чтобы правильно вырезать «кусочки», оценить и не потерять информацию, необходимую для определения стадии и постановки диагноза.
Эти фрагменты отправляются в гистологические кассеты (контейнеры), а после этого попадают в лабораторию, где проходят последовательные этапы обработки: фиксацию, обезвоживание и пропитывание парафином, чтобы ткань могла храниться длительное время.
После прохождения этих этапов получаются парафиновые блоки, и уже с них берутся тонкие — до 4-5 микрометров — срезы, которые далее переносятся на стекло и окрашиваются. Так получаются гистологические стекла, которые дальше попадают на стол к патоморфологам, и мы оцениваем, как выглядит ткань в целом, отдельные клетки и их структуры, а также другие параметры, после чего выставляем диагноз.
Микроскоп — это наш основной инструмент. Но иногда для постановки диагноза требуются дополнительные методы исследования, например, иммуногистохимический анализ. Он позволяет с помощью специальных веществ (маркеров) «подсветить» нужные клетки.
Также у нас есть способы найти мишени, на которые будет направлено действие тех или иных препаратов, что важно для определения тактики лечения. Например, мы можем определить, есть ли мутация HER2 (рецептора эпидермального фактора роста 2 типа) у женщины с раком молочной железы, и если она выявляется, то пациентке показана таргетная терапия.
Если на нашем этапе что-то выяснить невозможно, то материал отправляется врачам-генетикам для проведения молекулярно-генетических исследований. Подходящие образцы опухолей для этих исследований тоже выбираем мы.
О втором мнении в патоморфологии и моментах, когда меняется судьба человека
В наше отделение присылают материал для исследования (стекла, блоки и отсканированные гистологические препараты) со всей России. Это бывает, например, когда врачи из других учреждений сомневаются в поставленном диагнозе и хотят услышать второе мнение.
Бывают ситуации, когда мы снимаем уже поставленный онкологический диагноз. Это сложнее доказать, но в этот момент ты чувствуешь, что вот сейчас меняешь судьбу человека.
Занимаясь патоморфологией, ты вообще перестаешь удивляться тому, что происходит в мире, потому что возможно все. Но это сложный путь. Здесь ты должен уметь сосредотачиваться, много читать и анализировать, плюс часто нет отдачи от пациентов и врачей других специальностей.
Когда ты работаешь с людьми, помогаешь им, ты получаешь моральное удовлетворение, чувствуешь себя нужным. А когда сидишь в лаборатории, о тебе никто не знает, врачи-клиницисты с тобой не особо взаимодействуют, ты не ощущаешь себя частью команды, не чувствуешь себя важным — это может приводить к выгоранию.
Поэтому очень приятно, когда ребята-онкологи из ВШО присылают фотографии с моим заключением, и говорят: «Вот, ты поставила диагноз нашему пациенту, а мы сейчас его начнем лечить» — и это поддерживает желание что-то делать дальше.
Об умении смотреть на пациента с разных сторон и мотивации двигаться дальше
На третьем курсе, когда училась в Пермском государственном медицинском университете, я прочитала интервью о проекте ВШО и меня так вдохновило, что ребята в 25 лет посвятили свою жизнь онкологии, что захотелось стать частью этого сообщества. Поступить получилось с первого раза, как будто и не могло быть иначе!
Помимо знаний в онкологии, Высшая школа онкологии плюсом дает мне взгляд со стороны врачей-онкологов на то, как устроен процесс диагностики и лечения при онкологических заболеваниях. У нас складывается мультидисциплинарная команда, и ребята могут просто позвонить с вопросом: «Аня, помоги, а что это значит в заключении?». Как и я в свою очередь могу спросить: «Если я поставлю такой диагноз, то как изменится тактика ведения пациента?». Мы пытаемся строить свои решения, исходя из пользы для пациента.
На первом курсе ординатуры я жила с соседкой — онкологом из ВШО. И каждый вечер в течение года мы проводили за обсуждением онкологии на кухне с чаем: это очень помогло в понимании особенностей работы каждой из нас.
В ВШО мы можем смотреть на пациента с разных сторон — и это интересно. Для меня, наверное, это самое главное. Кроме этого, здесь очень много крутых умных ребят, и это мотивирует не отставать от них. Еще ВШО помогает найти людей, которые готовы с тобой заниматься, объяснять, тратить на это свое время.
Моя специальность постоянно развивается — хочется быть на этой волне и двигаться дальше.
Лучевой терапевт Кубанычбек Кенжекулов: «Сегодня есть более щадящие виды лечения, ведь развивается не только медицина, но и технологии»
О роли лучевой терапии в лечении и ее возможностях
Есть мнение, что лучевая терапия — устаревший метод, но это не так. Как один из основных видов лечения она по-прежнему используется в лечении опухолей женской половой системы, например, рака шейки матки, а также при злокачественных новообразованиях головы и шеи. В этих локализациях редко возможно хирургическое лечение, за исключением ранних стадий болезни.
Кроме того, лучевая терапия — часть комплексного лечения при опухолях других локализаций: раке молочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, прямой кишки, пищевода, при злокачественных новообразованиях центральной нервной системы и лимфомах.
Главная цель современной лучевой терапии — дать летальную дозу облучения на опухоль (путем воздействия на ДНК), при этом постараться минимально повредить окружающие здоровые органы, чтобы предостеречь их от гибели и тем самым снизить побочные эффекты. И линейные ускорители последнего поколения хорошо с этим справляются.
Сейчас же развивается не только медицина, но и технологии. Сегодня есть разные виды лечения — более щадящие, чем те, которые были еще 10-20 лет назад: лучевая терапия с модуляцией интенсивности, объемно модулированная лучевая терапия, протонная терапия.
Появляются разные комбинации терапии: добавляются радиомодификаторы — вещества, которые помогают усилить эффект лучевой терапии. Есть высокоточные кибер- и гамма-ножи, для которых достаточно одного сеанса. И вот поэтому я люблю эту область медицины: мы должны уметь работать на нескольких аппаратах, нужно постоянно учиться чему-то новому.
Когда я учился в университете, все такие аппараты видел в основном на картинках. А когда поступил в ВШО, то стал учиться в отделении, где как раз недавно появились два прекрасных аппарата, которые используются в передовых медицинских центрах.
Я на них посмотрел… и, знаете, если раньше я мечтал увидеть Rolls-Royce, то сейчас мне хочется и дальше работать с такими «машинами», ведь у них более благородная цель — участвовать в лечении пациентов.
О переживании за пациентов и важности говорить с ними открыто
Каждый пациент очень тревожится перед началом лучевой терапии, и нужно ответить на все вопросы и объяснить как можно ясно и открыто, что сеанс лучевой терапии безболезненный, предупредить о рисках и побочных эффектах, рассказать об их вероятности и обязательно сказать, что мы будем делать, если они появятся.
Лучевая терапия — это командная работа медицинских физиков, рентгенологов, рентгенлаборантов, инженеров и лучевых терапевтов, но ведем пациента мы.
В своей практике я много раз сталкивался с ситуациями, после которых чувствовал позитивные эмоции. Например, одной женщине мы проводили послеоперационный курс лучевой терапии по поводу рака молочной железы. Она была исхудавшая, без волос, потому что до этого еще получала химиотерапию… Я сильно переживал из-за ее состояния. Но через полгода пациентка пришла в больницу на запланированный осмотр к онкологу — и была уже совсем другим человеком, «расцвела». В этой ситуации лучевая терапия была частью комплексного лечения, частью этого хорошего результата.
С пациентами, которым нужно сообщить плохую новость, важно быть эмпатичным и честным: бывает трудно говорить горькую правду, так как есть страх не справиться как со своими эмоциями, так и с эмоциями пациента, но человек имеет право знать все о своем состоянии.
Однажды молодая пациентка с диагнозом «Рак шейки матки, стадия 3 b» спросила меня, сможет ли она иметь детей в будущем. А при такой стадии у нас есть один выбор лечения — это химиолучевая терапия. Я рассказал, что в область облучения будут попадать яичники, поэтому сохранить их мы, к сожалению, не сможем. С руководителем мы посоветовали девушке заморозить яйцеклетки, если это возможно (как рекомендуется в таких ситуациях), или сделать операцию по перемещению яичников из зоны облучения. Поговорил с ней по поводу сосредоточения на лечении основного заболевания, у которого при такой стадии прогноз не самый благоприятный.
После такого разговора у меня было… опустошение из-за того, что мечта увидеть своего ребенка не исполнится у этой пациентки. Тем не менее, совесть не мучила, так как я рассказал всю правду, которую мы имели на тот момент.
О желании «не быть узким» и учебе всю жизнь
Всегда кажется, что выбрать специальность в медицине очень легко, но на последнем 6 курсе, я, как и большинство моих одногруппников, был в тупике. И мне хотелось найти возможности — не просто пойти на какую-то известную кафедру, а попасть в то место, где тебя реально научат, предоставляют хорошие условия для развития. Под все эти пункты подходила Высшая школа онкологии, хотя я знал, что пройти будет почти невозможно, конкуренция — 30 человек на место.
Поначалу и мои родители (они тоже врачи) негативно отнеслись к специальности, которую я выбираю, потому что считали, что она связана с болью и смертью. А я понимал, какими шагами развивается онкология, и смотрел с оптимизмом на эту специальность. Ведь в начале прошлого столетия болезни, вызванные бактериальной инфекцией, были неизлечимыми, но потом появились антибиотики, и сейчас в медицине имеется большой выбор для лечения от этих заболеваний.
В октябре 2020 года из-за общественно-политической обстановки аэропорты в Кыргызстане были закрыты, а я очень хотел прилететь в Петербург и боялся, что меня отчислят из ВШО. В итоге я купил чартерный рейс за очень большие деньги, но меня все поддержали — и родственники, и друзья. Для меня это был единственный шанс изменить жизнь на 180 градусов, поэтому никаких сомнений не было.
Если бы мне сказали 2-3 года назад, что я буду в Питере жить и учиться с лучшими ребятами из всех уголков России, я бы никогда не поверил. Иногда я думаю, а заслуживаю ли я этого? ВШО — это реальная семья, хотя я раньше не верил в это слово. Это такая среда, где тебе помогают становиться лучше и максимально не выгореть. У меня к ней только огромная благодарность, которую я в будущем планирую проецировать на пациентов.
В ВШО я приобрел огромное количество знакомых, к которым могу обратиться в сложных ситуациях или в случае, когда что-то не знаю сам — и мы вместе будем разбираться в лечении определенного пациента. Наверное, это и есть пациентоориентированность. Также и я буду рад помогать своими знаниями.
В этом году я хочу сдать экзамены и получить сертификаты по обеим специальностям — онкологии и лучевой терапии, потому что считаю, что нельзя стать лучевым терапевтом без знания онкологии. Почти все время в ординатуре я был в отделениях лучевой терапии в разных больницах, и последние два месяца до выпуска решил побыть в отделении химиотерапии, чтобы лучше понимать, что происходит на других этапах лечения. Мне кажется, это очень важно — не быть узконаправленным в своей профессии.
Знакомые часто не понимают меня, когда говорю о планах на дальнейшее обучение: им кажется, что я всю жизнь буду учиться. Так вот им не кажется. Это тяжелый путь врача, но нельзя быть плохим доктором.
Как появится возможность, я сдам 2 этап американского медицинского экзамена, 1 этап которого уже прошел, и европейский экзамен для онкологов. Тем самым хочу быть уверенным, что знания, которыми я пользуюсь в лечении пациентов, соответствуют современным реалиям в медицине.
Хирург-онколог Антон Бржан: «Всегда можно достать скальпель, но наша задача — взвесить плюсы и минусы разных видов лечения и помочь человеку сделать выбор»

О хирургии в онкологии и стратегическом подходе
Я обучался общей плановой и экстренной хирургии, и в наше отделение попадали пациенты с онкологическими заболеваниями, в том числе с продвинутыми стадиями, когда мы могли помочь только симптоматически — например, остановить кровотечение или справиться с желтухой.
Мне стал интересен более стратегический подход, когда вы (тогда я еще говорил «ты», теперь стараюсь говорить «вы» — то есть врач вместе с пациентом) сначала обсудили необходимость вмешательства, возможные последствия и альтернативы. Поэтому я перешел в хирургию онкологическую. Это все такая же интересная и прекрасная хирургия, которую я обожаю, а горизонт планирования немножко другой.
Хирургический онколог или онколог-хирург — это прежде всего онколог, который умеет оперировать. И слово «онколог» становится сдерживающим «инструментом» от ненужных вмешательств. Ведь всегда можно достать скальпель и сказать: «Сейчас полечим», но надо знать, где нужно применить этот навык, а где он, наоборот, может навредить.
То есть задача хирургического онколога — взвесить плюсы и минусы разных видов лечения и выделить группу пациентов, которым можно помочь, оперируя. Если ты понимаешь, что другие виды лечения предпочтительнее — и вот для этого как раз необходимо разбираться в онкологии как в развивающейся науке — то нужно отправить человека к другому специалисту.
Онкологических заболеваний, которые целиком и полностью лечатся исключительно хирургически, сейчас нет. В то же время, даже на 4 стадии колоректального рака (при распространении заболевания, наличии отдаленных метастазов) сейчас есть возможность комбинирования лекарственного, лучевого и хирургического лечения, и это дает хороший результат.
Да, есть некоторые стадии, при которых хватает только хирургической помощи и может не понадобиться другое лечение — тот же колоректальный рак. Но, как мне кажется, нашим навыкам есть место во всех областях онкологии: мы выполняем биопсию, экстренные операции при развитии симптомов и осложнений — например, при кишечной непроходимости.
О пациентоориентированности и сложном выборе
Лечение рака — это командная «игра», как по мне, и хирург — звено этой команды. В этой команде множество участников, но начинается все с пациента. Если приходит человек и говорит: «У меня болит», «Мне страшно» или «Я не знаю, что делать», ему вряд ли помогут упреки вроде: «А зачем вы курили 50 лет?» или фраза: «Успокойтесь», если кто-то не сдержал эмоций. По-моему, так не работает.
Пациентоориентированность — когда ты отталкиваешься от того, что происходит с пациентом, от его видения ситуации, а не пытаешься подстроить его под заранее определенный шаблон.
Порой мы сталкиваемся с ситуациями, когда лечение, с одной стороны, может принести положительный результат, а с другой — грозит необратимыми последствиями.
Я участвовал в лечении пациента с лимфомой, и его заболевание распространилось на пищевод и легкое, фактически разрушив эти органы. Благодаря ряду хирургических вмешательств, направленных на борьбу с осложнениями, нам удалось стабилизировать состояние пациента. Но возможность дальнейшей химиотерапии вызывала серьезные опасения, хоть и могла принести свои плоды.
Команда онкологов расходилась во мнениях, стоит рисковать или нет. Обсудить с пациентом все возможные последствия, оттолкнуться от его стремления, было самым верным решением. Мужчина попросил, чтобы его навестила семья, и решил продолжить лечение. А результат превзошел все ожидания — наш пациент восстановился и смог спокойно вернуться домой.
Помочь человеку разобраться и сделать выбор — наверное, одна из наших основных задач.
О микромоментах, которые делают жизнь пациента лучше
Так как я работаю в стационаре, ко мне обычно приходят пациенты по направлению онколога из поликлиники, то есть они уже что-то знают о своем заболевании, и первый шок прошел. Мы больше разбираемся с тем, какую будем проводить операцию, как к ней готовиться и восстанавливаться после.
Тем не менее меня часто спрашивают: «Излечимо ли это заболевание, сколько я еще проживу?». Не могу сказать, что ответ на этот вопрос мне дается очень тяжело — это важный и ответственный момент, но я же сообщаю информацию, которую пациент хочет узнать.
Конечно, тяжело, когда пациент рассчитывал услышать, что больше никогда не вспомнит о своем заболевании, а на самом деле это не так — каждый переносит эту новость по-своему. Но я предпочитаю действие трагедии и стараюсь объяснить, что есть вещи, на которые можно направить своё внимание, чтобы уменьшить количество страданий. Медицина, слава богу, идет вперед, и есть такие-то препараты, такие-то специалисты — то есть я верю, что пациент не остается без поддержки.
Врачам же проще — они видят картину в целом и знают, что помимо операции будет процесс восстановления, затем — возможно, лекарственная терапия, лучевая. Что могут быть такие-то последствия, но их можно избежать с помощью таких-то средств.
Может, это громко звучит, но даже если все плохо, есть много микромоментов, в которых ты можешь сделать жизнь пациента чуть лучше.
Какую-то эмоциональную границу выставлять, конечно, приходится, потому что уходить в сильные переживания — это не то, что требуется от специалиста, и не то, что пациент от него ждет. То есть нужно понять эмоции человека, но не проживать их вместе с ним.
О любви к хирургии и ВШО, которая изменила взгляд на медицину
Я начинающий специалист: не очень много каких-то хирургических вызовов принял и отразил. Конечно, еще есть множество неотвеченных вопросов и навыков, которые мне нужно освоить. Расти в них и пробовать что-то новое — это важно и интересно.
Хирургия для меня это некая… отдушина. Это странно звучит, но мне действительно нравится ею заниматься — я реализуюсь так, я растворяюсь в этом, это процесс, которому я действительно готов посвящать много времени, который приносит мне удовольствие. Хирургия — это же не просто «махать скальпелем».
Если говорить о моем будущем развитии в сфере онкологии, то меня интересует максимально мультидисциплинарный подход, преемственность, работа на грани возможностей разных специалистов. Об этом я как раз задумался в Высшей школе онкологии.
Я решил, что буду заниматься хирургической онкологией до того, как узнал о ВШО, и тогда еще думал, что мой путь будет проходить через более классическое образование — специализацию или еще одну ординатуру. Но мне очень повезло познакомиться с некоторыми выпускниками ВШО.
Золотой для меня человек — онколог-хирург Руслан Мензулин, выпускник первого набора ВШО — получал один из многих своих сертификатов параллельно со мной. И мне понравился его подход к обучению и применению знаний, я решил побольше узнать, где и как он этому научился.
Например, сталкиваясь с какой-то клинической ситуацией, Руслан мог четко объяснить: «Этот метод лучше, потому что…». Он опирался на доказательную медицину — знал, что и где искать, опирался на научные данные, а не на мнения. Вот это меня восхитило.
Мне повезло и с тем, что весной 2020 года нашу клиническую базу закрыли на ковид, а в «красную зону» нас отправлять не спешили, поэтому у меня было время подготовиться к поступлению в ВШО. А потом повезло сдать экзамены.
Высшая школа онкологии радикально изменила мой взгляд на медицину. Самое главное — для меня окончательно обозначилась позиция: не ты мерило всех вещей, и нужно всегда действовать от конкретного пациента.
Плюс ВШО предоставила мне огромнейший набор инструментов: мне показали, как работать с данными, как эффективно взаимодействовать с мировой наукой, с пациентами и коллегами. ВШО — это очень классное сообщество, которое действительно стремится вперед, не боится признавать ошибки, говорить вслух. Это комьюнити, где очень много пассионарных людей.
На два года ты попадаешь в условия, где тебе показывают, как классно и эффективно можно сделать, как было бы в идеале. И это ощущение потом не отпускает: зачем после этого делать по-другому? Вот и все.
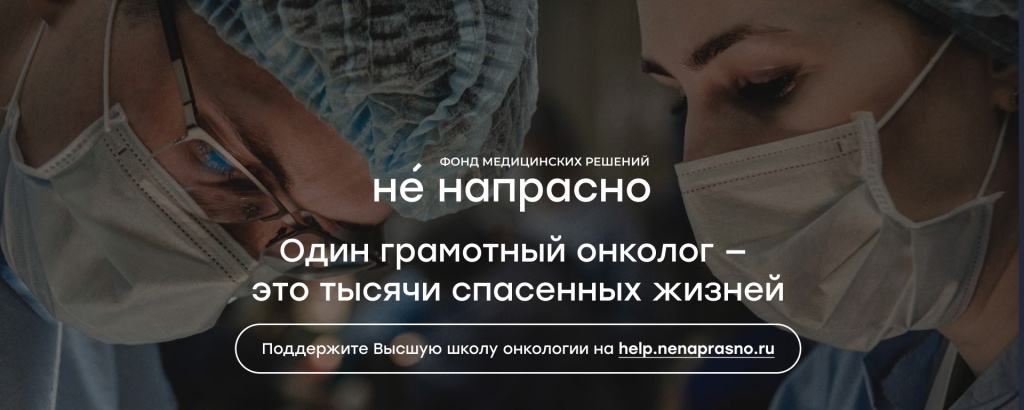










Все собранные средства идут на оплату экспертов, задействованных в консультациях, и на работу сервиса. Поддерживая системные проекты - образование талантливых врачей, просвещение широкой аудитории, внедрение технологий скрининга рака, - вы можете внести вклад в спасение сотен и тысяч людей в России и обеспечить помощь себе и своим близким, если в ней возникнет необходимость.